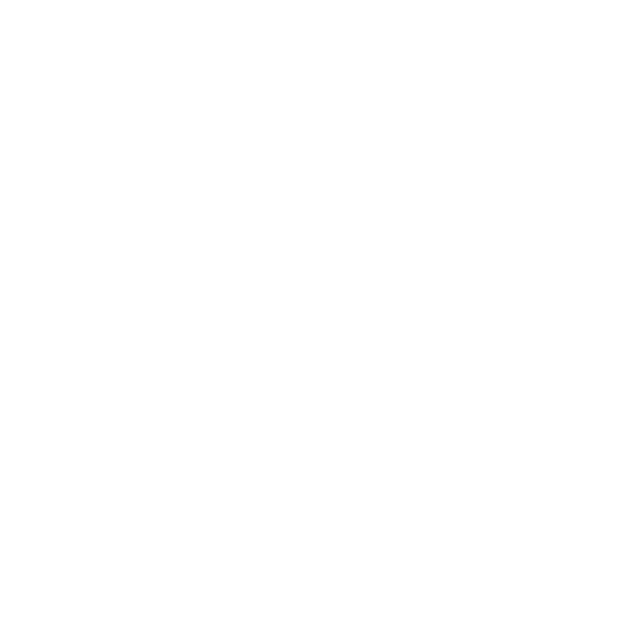METAXY
Егор Дорожкин
Имагинативный реализм: анархеология радости
«Во всем есть трещина – вот как проникает свет»
Леонард Коэн «Гимн»
Введение. За горизонт
По общераспространенному мнению, воображение, влекущее за горизонт, является уделом мечтателей и чудаков, слишком чувствительных для реального мира, а потому стремящихся убежать в иной – мир религиозных таинств, сновидений, галлюцинаций, художественных книг, видеоигр. Формированию этого стереотипа послужили многие увлеченные воображением деятели романтизма, равно как и скептики. Первые – из страха нарушить загадочность собственного облика – по-байроновски взирали на обывательскую суету, а вторые просто не видели проку во всем странном и необычном. И речь не только и не столько о сцене индивидуальной психологии. Под этой сценой работали сложные машины: категории обыденного рассудка и бессознательная защита Эго, христианская средневековая метафизика и протестантская этика, капиталистическое производство и сциентистская картина мира, идеологические аппараты государства и стратегии дисциплинарной власти. Конечно, к XXI веку люди уже не слишком похожи на персонажей эпохи раннего индустриального капитализма – нас активно учат быть креативными и мыслить иначе. При этом существо дела никоим образом не изменилось. Необычное делается приемлемым и даже похвальным лишь в той мере, в которой находит менее очевидные и более эффективные способы решения утилитарных задач, или же принимается в формах ретрита, возвращающего работнику продуктивность. В итоге ни о каком освобождении воображения речь не идет. Мы ищем ему оправдание в применении на производстве, а значит в сведении свободы к несвободе.
Однако, может статься, воображение по своему существу не есть бегство в иллюзию, как не является оно и ресурсом капиталистической креативности. Образ ускользания за горизонт настойчиво повторяется в речах, фантазиях и художественных произведениях с конца XVIII столетия, а корни его тянутся к гомеровской «Одиссее». Не стоит ли допустить за подобной настоятельностью большую онтологическую глубину, чем принято думать в расхожей социально-психологической трактовке? Возможно ли, что там, за горизонтом, воображение не подчиняется ни субъекту, ни системе, но открывает новые способы существования? Не окажется ли, что сам горизонт – не просто линия вдалеке и предел, но скорее место расщепления реальности и ее утечки?
Патетический образ загоризонтности интуитивно понятен и даже стереотипен, но мы полагаем, что под напластованием банальностей, молчаливо лежит истина, которая должна быть извлечена как таковая. Философия и является не чем иным, как системой обходных путей, позволяющих миновать расхожий смысл общих мест и пробиться к этой истине. Вместе с тем, переосмысление воображения выступает актуальным запросом современной мысли, имеющим немалое количество соратников и ранее уже названным нами «имагинативным реализмом»[1]. Само понятие было введено Яковом Голосовкером[2] и в узком смысле может пониматься как наименование его собственной концепции. Однако нами оно используется в расширительном значении принципа, позволяющего извлечь нечто вроде материалистической онтологии воображения из натурфилософии (как в ее широком романтическом изводе, так и в современной геофилософской ипостаси) и переосмыслить картографию новых реализмов, отказывающихся сводить действительность к социальным конструктам. Речь идет не о какой-то отдельной теории или направлении, но об установке на спекулятивное тождество природы и воображения или, говоря иначе, на имманентность воображения – имагинацию.
Структура и аффективная настоятельность образа ускользания за горизонт позволяют избежать вводного изложения общетеоретических положений, поскольку это противоречит внутренней динамике имагинативизма. Нашей целью является не понятийное размещение перед вопросом о «воображении» в целом, но герменевтический скачок туда, где оно уже не мыслится функцией человеческого сознания, а оказывается способом бытия. Ведь если воображение не сводится к бегству субъекта от реальности или к реальности системного воспроизводства, то, возможно, это не мы стремимся за горизонт. Возможно, сама природа вовлекает нас на те пути, где воображение перестает быть субъективной способностью и становится материальной силой, раскрывающей альтернативные потенции реальности и активирующей трансформации субъекта и мира. Силой, воодушевляющей быть.
Бесконечная природа мгновения
Однажды майским утром 1953 года Олдос Хаксли попытался описать беспредельную глубину мгновения, избавленного от унылого схематизма обыденности. Ему вспомнилось, как на вопрос «Что такое Вселенская Форма Будды?» (то есть природа в ее непосредственной спонтанной данности), дзэн-буддийский учитель ответил: «Изгородь в дальнем конце сада»[3]. Она просто есть – безо всяких обращений к замысловатым логическим построениям или изощренным ритуалам, но вместе с тем ее присутствие несколько иное, чем у ближайших предметов моего внимания. Изгородь находится на периферии ясного и отчетливого фокуса сознания, рассаживающего все качества на предусмотренные рассудком места. Непосредственность бытия как оно есть обнаруживается не в факте, напрямую «схваченном за шкирку», а в том, что присутствует на краю восприятия. Строго говоря, именно таким периферическим присутствием и является наш жизненный мир. Он никогда не дан в качестве конкретной предметности, но если мы начинаем ловить эту неконкретность сетями общих понятий, получаем «картину мира», неизбежно скрывающую непосредственный горизонт присутствия здесь и сейчас. Странным образом онтологическая модальность, в которой раскрывается самый что ни на есть непосредственный опыт проживаемого мгновения, – не твердые факты, излеченные надежными инструментами, а шорохи и эхо периферии, взывающие к отрешенности.
Мгновение неуловимо. Как хронологический минимум, оно никогда не успевает стать актуальным настоящим, а потому всегда уже оказывается прошлым. Как онтологический максимум, оно сосредотачивает всю сущность времени и оттого проваливается в вечность. Мгновение беспредельно в своей непосредственной данности, но утекает как вода сквозь пальцы при попытке схватить его и удержать. Оно подобно грезам в полудреме, за доли секунды сплетающимся в насыщенную смыслом цельную картину и моментально тающим, как только наше внимание привлечет внешний раздражитель. Непосредственная глубина мгновения всегда на периферии сознания, как горизонт, не доступный связыванию ни в какие предметные отношения. Однако есть относительный горизонт восприятия, а есть – абсолютный горизонт событий. Первый выступает индивидуальным фоном представлений об актуальном, то есть рамкой возможного, понятного, полезного и наличного. Эдакий «редукционный клапан» реальности, гарантирующий, что здесь и сейчас никакому единичному присутствию не дана вся природа целиком. Второй же является безличным фоном, в котором утопает любая актуальная ситуация, насыщаясь относительно бесполезными связями и расслаиваясь на свободные образы. Именно свободные образы как грезы достигают того незримого, что наполняет каждое мгновение, каждое единичное существование. Они раскрывают заговор с тьмой уже/еще/всегда отсутствующего, в котором находится всякое единичное присутствие. Поскольку избыток мгновения не может стать актуальным предметом, не отчетливое представление достигает глубины непосредственного бытия, а свободная игра образов – эхо и шорохи по краям вещей.
Выходит, что природа в ее непосредственной спонтанной данности действительно похожа на изгородь в дальнем конце сада, но лишь до тех пор, покуда наше внимание расположено в центре этого сада. Присмотритесь к изгороди, и она откажется намекать на свободную ассоциацию образов за своими пределами, трансформируясь в угрюмый предмет. В схожем смысле Фридрих Гельдерлин называл звезды «поэтическими сверстниками»[4] – древний фон, на котором свободно сплетаются образы, становясь мифами, поэмами, метафорами и, в конечном счете, опорами самого языка. Будучи помещенными в непосредственный фокус внимания, пытающего их на предмет каких-то фактов, звезды никогда не стали бы «тихими богами небес», при всей неоспоримой ценности извлекаемых данных. Дзэнская изгородь в саду и античные звезды на небе обретают ту саму абсолютную глубину не в качестве предметов представления, а лишь в модусе свободных образов, отрешенно указывающих в незримую даль. Изгородь в дальнем конце сада не просто метафора мгновения, но выражение разрыва, где реальность перестает быть замкнутой на себе чистой позитивностью и открывается. Отсюда следует, что и периферийность или отрешенность присутствия оказывается уже не просто элементом феноменологии восприятия, как могло показаться, но онтологическим эффектом расщелины, через которую мир выходит за пределы самого себя. Мгновение не только место нашего актуального восприятия, но условие реальности любого единичного сущего как случающегося, сталкивающегося с другими и становящегося.
Наглядным примером этой онтологии могут служить эффекты ностальгии и формирования ауры вокруг образов прошлого. Настоящее дано как актуальные предметные связи – мы имеем перед собой конкретную наличную ситуацию, что-то в ней делаем, на чем-то фокусируемся, в достаточной мере понимаем, куда и зачем движемся. Напротив, при созерцании с временной дистанции этих же самых предметов уже в качестве образов прошлого мы выключены из их актуальной ситуации, как и они из нашей. Теперь это не представления, скрывающие абсолютный горизонт, не противопоставленные безличному фону индивидуализированные фигуры, а свободные образы, исполненные онтологического избытка и оттого способные к выражению ауратического измерения. Здесь наблюдается не просто психологический эффект, но структурный момент расслоения бытия в становлении. Прошлое перестает быть хронологической категорией и становится спектральной глубиной, высвобождающей себя в образах. Иначе говоря, в ностальгических, призрачных и романтических атмосферах нас манят не предметы прошлого как таковые, а осязательность той самой глубины, что составляет вневременное всегда – абсолютный горизонт мгновения.
Любопытно, что именно размышления мастера дзэн Догэна о горизонте мгновения[5], схожие с мыслями Иоанна Дунса Скота об интенсивной бесконечности[6], пришли на ум Жилю Делёзу[7], когда тот, подобно Хаксли, решил описать непосредственную и спонтанную самобытность всего существующего в плане имманентности. Не относительный горизонт наблюдаемого наблюдателем, загроможденный автоматизмами, неврозами, представлениями и просто актуальными предметами, но абсолютный горизонт событий. Это позволяет еще раз уточнить странное отношение между относительным и абсолютным горизонтом, открывающееся в аналитике мгновения. Относительный горизонт – это конечная ситуация в ее актуальном наличии. Абсолютный горизонт – это сама природа мгновения в ее бесконечности. При этом бесконечность выступает непосредственным содержанием, имманентностью, а не располагается в умозрительном пространстве за пределами конечного сущего. Абсолютный горизонт оказывается самой линией актуализации относительности и конечности актуального, а не их потусторонним. Природа в ее бесконечности подобна вечному возвращению, которое все целиком уже здесь и в котором все всегда уже есть. В этом месте можно играть логическими парадоксами времени без становления или становления без времени, но суть в том, что речь идет об интенсивной бесконечности. Не количественная экстенсивная бесконечность, разворачивающаяся хронологически или пространственно, а интенсивность внутренней глубины, сложности и многообразия любого единичного сущего. Сила его существования, всегда чреватая событиями. Проще говоря, это бесконечное в конечном. Абсолютный горизонт не означает «тотальный», «идеальный» или «трансцендентный». На языке классического немецкого идеализма одним из важнейших значений слова «Абсолют» всегда выступало реальнейшее (realiora) как единство конечного и бесконечного. Хотя его трактовки сильно различались от философа к философу, для нас здесь важно, что абсолютный горизонт означает природу в ее интенсивной бесконечности, всегда данную здесь и сейчас.
Избытки свободных образов как грезы на периферии внимания не сводятся к феноменологии восприятия, а указывают на онтологический план. Оба среза, восприятие и бытие, имманентно накладываются друг на друга, как относительный и абсолютный горизонт мгновения, как его конечность и интенсивная бесконечность. Накладываются до неразличимости, но не совпадают до безразличия. Мгновение, разорванное между своей неуловимостью и предельной реальностью, действует как зона расслоения – нематематическая точка, где конечное оказывается способом восприятия бесконечного. Само расслоение горизонтов мгновения на относительный и абсолютный так, что один не отличен от другого, делает мгновение трещиной, расселиной, разрывом реальности, выводящим ее за пределы себя самой и открывающим в вечность.
μεταξύ
Воображение как имманентные грезы бесконечности
Природа любит прятаться, как учил Гераклит. Простота того, что непосредственно есть, поистине оказывается главной тайной мышления. Она всегда скользит, удваивается и прячется, когда мы желаем поместить ее в фокус наших размышлений. Разум в своем автоматизме склонен теряться среди удвоений простого, принимая отслаивающиеся чешуйки понятий за само реальное, принимая завершенное прошлое мгновения за его настоящее. В основе мира лежит не загадка из символов, но несимволизируемая тайна, расщепление которой и является лабиринтом нашего разума.
В этой парадоксальности отрешенному взгляду сам Абсолют предстает уже не тотальной или трансцендентной сущностью, но былинкой. Тем самым, и абсолютный горизонт мгновения, вскрывающий интенсивную бесконечность как силу существования, всегда непосредственно дан в движении кривых линий. Он подобен вывернутым наизнанку неоплатоническим кругам сущего – их центр нигде, но край везде. Возможно, тот самый край (Gegnet), из-за которого, по словам Мартина Хайдеггера[8], приходит мысль и для которого относительный (феноменологический или субъективный) горизонт является лишь предметно-представляющим модусом. Подобно плотному облаку на ясном небе, край которого настолько четкий, что взгляд как бы проникает за него и оказывается уже не перед наличным предметом, а в непосредственной глубине его самобытности. Поэтому в приводившихся образах дзэнской изгороди, античных звезд или артефактов прошлого первостепенную роль играет не даль, а именно свобода образа. Его абстрагирование от нейтрального представления предмета или ситуации в глубь бесконечности и безличности мгновения – становление грезой. Пространственная или временная дистанции способны усиливать некоторые эстетические эффекты, но они являются лишь одними из возможных путей освобождения образа, а вовсе не его содержанием. В целом речь о любом образе, позволяющем «провалиться» в конечную вещь как в интенсивную бесконечность.
Только возможность провалиться, подобно героине «Алисы в стране чудес», открывает непосредственный смысл мгновения – природу в ее абсолютной имманентности. Если относительный горизонт мгновения оказывается связан с представлением, отделяющим субъект от мира и собирающим его в актуальную картину, то абсолютный – со свободным образом, включающим субъект в безличное становление. Воображение в своей онтологической основе и является ускользанием за относительный горизонт к горизонту абсолютному, движением в бесконечно расслаивающихся образах актуальной действительности. Можно использовать различные формулировки, но суть одна – это всегда открытие бесконечности в конечном. Именно поэтому в общедоступных понятиях воображение определяют как способность видеть несуществующее и отсутствующее. Интенсивная бесконечность природы, избыточность ее становления, является не актуальным предметом, а свойством разрыва предметности. В этом и суть: бесконечность вообще не может быть дана в качестве конечного предмета, но как интенсивная бесконечность она характеризует глубину бытия любой вещи. Конечная вещь является относительным пределом интенсивной бесконечности собственного бытия в становлении. Возможность провалиться в глубину образа не дает нам никакого другого предмета – это не галлюцинация и не телепортация. Мы видим ту же самую актуальную реальность, наши глаза нас не обманывают, но при этом мы видим нечто большее в том же самом, его интенсивность. Линия актуализации удваивается, трещит, расщепляется, освобождая образ, а вместе с ним и нас самих.
Свободные образы оказываются имманентным скольжением конечного к собственной интенсивной бесконечности. Воображением в таком случае можно называть не субъективную способность, но те же самые отрешенные образы как условие реальности движения субъекта сквозь относительный горизонт к горизонту абсолютному. Точнее говоря, условие его производства в этом движении. Не Я вижу бесконечность за горизонтом, но свободные образы выражают ее через трещину или просвет в реальности, где мир выходит за предел самого себя. Именно для того, чтобы отличить указанный онтологический смысл воображения как реального процесса от всех его разнообразных значений и трактовок, нами используется введенный Яковом Голосовкером термин «имагинация». Более понятным он может стать через то, что в европейской философии XX века называли критикой репрезентации и метафизики субъекта, которая в некоторых случаях привела к подозрительности в отношении воображения как такового. Сами основания этой критики актуальны по сей день, но, подобно тому, как децентрация не убила субъекта, а открыла его в ином смысле, так и здесь следует различать воображение как представление, подчиненное условиям возможности знания, и воображение – как интересующую нас имагинацию, укорененную в имманентном. Материальная действительность, природа – больше всего того, что возможно представить. Воображение в смысле имагинации является процессом проживания и освоения этой избыточности, а не представлением и фантазированием.
Вот Я, мыслящий субъект, наблюдающий нечто и выносящий об этом суждения. Вот объекты, которые я наблюдаю, мыслю и с которыми взаимодействую. Эта оппозиция относительно неплохо работает, когда мы на уровне формальной логики выделяем что есть субъект, а что есть объект конкретного высказывания. Однако на онтологическом уровне, то есть не в соотнесении чистых пропозиций, но в производстве самой их действительности, вещи проявляют дерзость, хюбрис, экспрессию, сопротивляясь сведению себя до статуса нейтральных объектов. В действительности наше представление о нейтральных объектах, данных для нейтрального познания, касается не сущности вещей как таковых, а связано с картиной мира, производной от вполне конкретных специфических типов объективации – социальных отношений, технических устройств и тех вещей, для которых с точки зрения нашей темпоральности характерно постоянство и предсказуемость, например, движение звезд на небе. Классическое кантианское решение этого несоответствия между субъектом и объектом, рациональным и эмпирическим – трансцендентальная субъективность, то есть определенные правила, выступающие условиями возможности любого опыта. Они всеобщим и необходимым образом задают рамки, в которых воображение работает как схематизм рассудка, конструирующего непосредственный единичный предмет нашего представления на основании универсальных категорий. Благодаря данной функции воображения, мы действительно способны мыслить предмет в его отсутствии так, чтобы производить с ним истинностные логические операции.
В противоположность этому имагинацией мы называем совершенно иную область воображения – не представления, а свободные образы. Подобно трансцендентальной субъективности, она тоже занимает место по ту строну субъект-объектной оппозиции, но в перевернутом смысле. Речь уже не о всеобщих и необходимых суждениях, а об утечках реальности, связанных с ее онтологическим избытком. Имагинация является имманентным движением субъекта сквозь относительный горизонт мгновения к горизонту абсолютному и тем самым выступает модусом воображения, не подчиненным репрезентации. Последняя есть производство представлений, существующих вне и над действительностью желающего субъекта и становящихся вещей, в качестве нейтральной возможности указания на соответствующую ей реальность. Фантазии и иллюзии являются побочной продукцией той же самой функции. Обладая аналогичным статусом несуществования в реальности, они при этом не соотносятся с реальностью вещей, а представляют самих себя. Это ложная свобода, так как игра фантазий остается в рамках относительного горизонта субъективных возможностей, производя новое лишь в виде химерического соединения имеющихся представлений о природе и культуре. Напротив, игра воображения в смысле имагинации является не свободой субъекта смешивать представления, но свободой самого образа.
На фундаментальном онтологическом уровне воображение (имагинация) носит эстетический, а не эпистемологический характер. Беспредметную глубину образа, сияние его способности указывать сквозь себя в бесконечность мы и называем красотой. Она ничего не добавляет к вещам и ничего у них не отнимает, выступая чистой имманентностью. Воображение, ускользая за относительный горизонт к горизонту абсолютному, позволяет нам провалиться в глубину единичного, глубину мгновения и первое, что мы встречаем, – красоту. Конечно, красота является почти столь же объемным понятием как воображение или природа, отношения с которым требуют уточнений. Для нас важно, что красотой именуется не только изящное и гармоничное. Она может быть ужасающей, жуткой, странной, волшебной и так далее, в зависимости от того, какие констелляции образов мы рассматриваем и с какими критериями к ним подходим. При этом во всех случаях главное, что ее нельзя понимать как простое соответствие некоему образцу, идеалу, порядку. Через соответствия работают представления и пропозиции. Напротив, красота является разрывом реальности, но не причиняющим ущерба, а обогащающим. Она позволяет избыткам образов течь и увлекать нас за собой. Красота, по определению, является напряжением между конечной актуальной формой и интенсивной бесконечностью ее становления, подразумевая тем самым не гармонию как наличный порядок и соответствие, а невозможную гармонию.
Образ может быть свободным и ускользающим, а может быть предметным представлением, всегда так или иначе существуя в некоторой двусмысленности. Красота же безошибочно маркирует непосредственно онтологический уровень разрыва и утечки реального. Свободный образ неизбежно существует в эстетическом режиме. Поскольку мы выделили имагинацию как имманентность воображения, то красота, или имагинативная эстетика, является самим его основанием – хрупким и абсолютным. Когда воображение, следуя имманентному потоку отрешенных образов, устремляет взгляд за горизонт, в (не)зримую бесконечность, оно обнаруживает красоту в качестве самой ее материальности. И в этом смысле материалистическая онтология воображения, конечно же, является эстетической онтологией, а имагинативный реализм – эстетическим реализмом. Представление эстетики как онтологии и первой философии имеет давнюю традицию, с различными трансформациями прошедшую через античный и ренессансный неоплатонизм, чтобы затем усилиями романтиков и наследующих им поэтических онтологий достичь современности. Тем не менее мы настаиваем на формулировке «имагинативный реализм», поскольку, во-первых, понятие «имагинация» позволяет избежать редукции воображения к репрезентации, структурно-аналитическому Воображаемому или просто к иллюзиям; и, во-вторых, оно уберегает от сведения вопроса к художественному творчеству и теориям прекрасного в искусстве. Иначе говоря, понятие «имагинация», указывая на имманентность воображения, делает то же самое в отношении обширной и двусмысленной области эстетического.
И здесь мы вплотную подходим к центральному принципу имагинативного реализма – спекулятивному тождеству природы и воображения, или имманентности воображения. Его смыслы поднимались нами слой за слоем на каждом герменевтическом круге через неразличимое наложение восприятия и бытия, относительного и абсолютного, конечного и бесконечного, утечек и избытков, представления и образа, фантазии и грезы, порядка и красоты. Пришло время собрать картину воедино.
Абсолютная свобода: имагинативный реализм и имагинативный бунт
Природа любит играть и прятаться. В этом убеждает тайна простоты, парадоксальная вечность мгновения, непредсказуемость единичного, непрестанное расслоение образов реальности. Отсюда реальнейшее, абсолютное, бесконечное, странным образом оказывается не тотальным, идеальным или трансцендентным, а имманентным, хрупким, былинкой. Трансцендентное имманентно, что не делает данную реальность завершенной, совершенной и полностью актуальной – напротив, реальность бесконечно проваливается вглубь себя самой, во фрактальные коридоры и дифференциальную имманентность. Иначе говоря, реальность не предстает замкнутой на себе позитивностью, она выходит за свои пределы. И не в какое-то наличное потустороннее пространство, но сама становясь Открытым. Имманентность потустороннего, где Абсолют – это скорее неизбывная трещина актуального пространства, чем его идеальный фундамент.
Однако если реальнейшее предстает парадоксами времени без становления или становления без времени, в которых природа играет и прячется, разве не воображение как игра свободных образов, достигает этой действительности? Конечно, не фотографически точного представления – ведь о каких предметах и единицах может идти речь в разверстой вечности мгновения? Свободная игра образов, ускользая за горизонт актуального, достигает иного реализма – имагинативного. Надежного лишь в своей аффективной настоятельности, в своем динамизме и онтопоэтизме, в хрупкости самой игры, а вовсе не в ясности и отчетливости представления, которое можно из него извлечь. Иначе говоря, если материальная действительность существует в становлении, воображение необходимо для восприятия ее беспредельной потенциирующей и вероятностной природы. Свободные образы как эстетическая материя воображения оказываются непосредственным выражением самого бытия становления. Материалистическая онтология воображения в этом ключе оказывается онтологией трансформаций, онтологией неустойчивого, но реального становления, в котором субъект не исчезает, а пересобирается из материала своей дезинтеграции. Становление тем более интенсивное, что его не следует понимать в качестве капиталистического производства и хронологического времени, – оно подразумевает глубину, самодостаточность и бесконечность мгновения, покой высшего напряжения, сингулярность.
Для усиления тезиса скажем, что именно в духе имагинативного реализма ранними романтиками была изобретена волшебная сказка в ее отличие от традиционной народной сказочной формы, хотя и не без связи с ней. Романтическая сказка и есть свободное сплетение образов за горизонтом, что делает ее не уходом от действительности, а, напротив, интенсивностью – не иллюзией, а подлинно реальным. Именно это подразумевал Новалис, говоря, что в сказке царит «природная анархия»[9] – не произвол человеческого ума, а свобода и тайна самой природы. Имагинативистские исследования сказок и сказочности – отдельная интересная тема, к которой мы обратимся в других текстах. Здесь же достаточно, что указание на сказку пресекает извращение имагинативного реализма в тезис о простом соответствии воображения и действительности, их безразличное совпадение. Сказка в еще меньшей степени, чем красота, может быть каким-то простым соответствием.
Мы последовательно указывали на природу мгновения как имманентную трещину, открывающую существование Иному. Свобода образа предполагает, что разрыв становится гранью прилегания природы и воображения, но не безразличного совпадения. Выражаясь проще, речь не о наивном совпадении мечты и действительности. Имагинативный реализм не подразумевает никакого постмодернисткого эзотеризма в духе «трансерфинга реальности» или религиозного фанатизма. Абсолютным и безусловным совпадением конечного и бесконечного оказывается сам разрыв реальности в ее интенсивных избытках. Отсюда невозможно свести полноту действительности или реальнейшее ни к какому-то Объекту, сказав, что все трещины лишь в дефектах субъективности, ни к автономному Субъекту, сказав, что он творит реальность по своей воле, ни даже к трансцендентальной сетке всеобщих категорий, предустанавливающей все возможные формы субъект-объектной корреляции. Имагинативный реализм утверждает имманентное присутствие Иного как неизбывность утечек. Вследствие этого свобода субъекта не отрицается, не редуцируется к полю объективного или возможного, но становится экстатической, то есть не принадлежащей ему самому. Данный тезис оттачивался в долгой традиции постметафизического мышления, которая от Фридриха Шеллинга через Мартина Хайдеггера и Жиля Делёза приводит к некоторым современным авторам. В ее центре находится вопрос об имманентно Ином как бесконечности в конечном, необычности обычного. Онтопоэтический вопрос об интенсивных избытках как безвластном реальнейшем, сопротивляющемся власти ясных и отчетливых представлений. Вопрос о той самой свободе, проблематичность которой заострил своей мыслью Фридрих Шеллинг: не свобода от природы, но свобода в природе[10].
Конечно, свободен лишь Абсолют, на что намекает латинское значение этого слова[11], а свобода субъекта является необходимостью воссоединения с ним. В общем виде эта мысль имеет древнюю традицию как на Востоке, так и на Западе. Однако мы видели, что абсолютной предстает не тотальность или трансцендентная сущность, но сама утечка реальности, ее неизбывный раскол и становление. В таком случае свобода, понимаемая как единение, уже не является привычным смирением перед трансцендентным Богом или тотальной Природой. Свобода субъекта действительно вне его самого, но не в потустороннем. Она реализуется в той мере, в которой субъект идентифицируется с интенсивной бесконечностью конечного. Конечное не подлежит снятию, отрицанию или возвращению к собственному тождеству через негативность, а открывает подлинно Иное в его невозможности – онтологическую свободу. Ее можно назвать отрешенностью, но никак не смирением. Иначе говоря, речь не идет о ничтожном положении субъекта пред Богом или Природой, требующими покорности как единственного пути к спасению от жалкой участи. В своей негативности подобная модель лишь узаконивает любой актуальный порядок и вместо освобождающего единения с бесконечностью подразумевает смиренное соответствие вполне конечной конъюнктуре. Напротив, идентификация с интенсивным избытком открывает имманентно Иное как бесконечную перспективу свободы.
Открытость конечного и связанная с этим имманентная утечка образов позволяют отрешиться от актуального, не сменяя его на оковы Ничто. Оковы, характерные для ресентимента, нигилизма или инвестиций желания в идеальную жизнь, принуждение к которой исходит как от религиозных культов, так и от капиталистических культур. Это Ничто принимает различные формы: от циничного отрицания до покорного смирения, ибо в сущности они одно – отсутствие свободы и воображения. Напротив, имманентность Иного, отрешение, связанное с утечкой образов, освобождает скорее непозитивную утвердительность игры, чем негативность цинизма и смирения. Экстатическая свобода ускользает за горизонт актуального, открывая интенсивную бесконечность того, что есть в становлении, а не бытии или небытии трансцендентного идеального мира. При этом воображение в смысле имагинации мы и определяли как ту самую утечку образов, выступающую условием реальности движения субъекта сквозь относительный горизонт к горизонту абсолютному, а не как субъективную способность представления. Таким образом, мы действительно свободны воображать, но не владея этой свободой, а, напротив, принадлежа ей, производясь ею. Более того, принадлежность свободе оказывается самой утечкой реальности, а не формой соответствия идеальному.
Поэтому наиболее характерным жанром имагинативного реализма можно считать именно сказку в ее свободе и хрупкости, в ее анархо-имагинативизме, а не миф с его мощной социально идеализирующей инерцией. Поэтому же главным героем имагинативизма стоит называть «Дон Кихота» Мигеля де Сервантеса. Как и волшебным сказкам, этой фигуре следовало бы посвятить отдельное исследование; здесь же лишь выделим главное. Несмотря на расхожие представления о «донкихотстве» как о прекраснодушии или наивно-романтическом культе мечты, оригинальный персонаж Сервантеса гораздо глубже более поздних – упрощающих – прочтений. Текст проходит путь начиная с откровенной сатиры через трагикомедию к какой-то невероятной тайне. Это трагическая история о том, что мечта всегда разобьется о реальность, но что вместе с тем нет ничего более реального, чем сама эта гибель. Поэтому имагинативный реализм подразумевает не притворство или бегство в иллюзии, а игру без фальши, благородство броска костей, невинность и легкость, подобные смеху Моцарта из «Степного волка» Германа Гессе. Игра воображения открывает высшие моменты, в которых трансформации субъекта и мира становятся не разладом, а прозрением вечности. Если бы речь шла об абсолютной вере во «что-то» или о моральном императиве стремиться к таковой, легкость игры природы-воображения была бы невозможна, как не нужен был бы и свободный субъект.
Без этой абсолютной надтреснутости воображение невозможно: оно извращается либо в отражение действительности, либо в психоз. Разве дети, когда самозабвенно играют в летающих героев и прыгают со стула на стул, выпрыгивают при этом из окон? Такое возможно только как несчастный случай, от которого никто никогда не застрахован, но который точно не является ни игрой, ни воображением. В самой сущности имагинации содержится этот фундаментальный раскол, не препятствующий реальности воображения, а порождающий ее. Раскол трагический, но не в смысле пессимизма, а как заведомое условие невозможности, порождающее саму игру. Подлинная игра воображения тем более реальна, чем более уводит за горизонт возможного, в самое сердце природы, становясь непосредственным субъективным отношением к материальной действительности в ее абсолютном содержании. Иначе говоря, в игре воображения открывается вечность, которая не может быть дана в качестве идеального объекта. Именно в этом, например, подлинная сила мифа, а не в «типах», которые можно из них вычленить и которые действительно за долгие века оставили глубокие следы в коллективном воображаемом. «Архетип» является не абсолютным содержанием имагинации, а среднестатистической фантазией, что вовсе не отменяет возможности его рассмотрения и даже применения, но помещает в иной регистр воображаемого, не относящийся к имагинативному реализму, а уводящий скорее в область самоуверенного традиционализма.
Если природа любит прятаться, если бытие в своей простоте оказывается тайной, то ее не достичь апелляцией к ясному и отчетливому представлению. И не важно, имеет ли это представление своим предметом материальный объект или выделенный в воображаемом тип. Необходимо конструировать области эстетического затемнения в знании и управляемой спонтанности воображения. Лучше всех это было известно уже упоминавшимся романтикам, а также сюрреалистам в их общей стратегии, направленной на создание темных трещин, разрывов и ущелий в представлениях о действительности, которые могло бы заполнить воображение. Собственно, техника романтического фрагмента и является чистой воды работой с имманентностью свободных образов. Для них было очевидно, что природа не является предметом правильных представлений, выстроенных в ясную и отчетливую картину мира. Она раскрывается лишь тому, кто готов включиться в игру, проникнуться воодушевлением. Природа для романтиков и была этим воодушевлением быть, где образование минералов, органический рост и творческое воображение имеют неразличимый корень. Именно поэтому Новалис писал, что в сказке царит «природная анархия». Фрагмент как свободный образ является одним из главных инструментов достижения подобного реализма: свободная единичность разрывает относительный горизонт слаженности мира, открывая сумрачный абсолютный горизонт имманентности.
И здесь, обозначив реальность воображения как свободу и невозможность, мы подходим к пределу, за которым речь должна идти уже не о принципах имагинативного реализма, а о формах его действительности. О конкретных практиках воображения как материальной силы, что раскрывает альтернативные потенции реальности. Именно это, в конечном счете, и является подлинным реализмом. Имагинативная игра и ее эстетические режимы никогда не бывают нейтральными, они движутся в гетерогенности интенсивных избытков, выражающих саму силу существования. Воображение в смысле имагинации есть отношение субъекта к свободным образам как имманентному скольжению конечного к собственной интенсивной бесконечности. Условие реальности его движения за горизонт. Это не просто эстетическая онтология, но онтология трансформации субъекта и мира, где тот, «кто хочет душу свою сберечь, потеряет ее» (Мф. 16:25, Мк. 8:35, Лк 9:24): онтология роста, непосредственной спонтанности природы как экстатической свободы. Тем самым воображение связано с возможностью размыкать ситуации, подобно семени, пробивающему шелуху, или змее, сбрасывающей кожу. Когда актуальность превращается в тупик и удушье, именно воображение в рассмотренном имагинативном смысле оказывается настоящей виталистской силой, способной взбунтоваться и прорвать рамки возможного. Отрешиться от актуального и ускользнуть, а не смириться. Например, таковым был романический бунт конца XVIII - начала XIX века против господствовавшей модели Природы или бунт 1960-х годов против господствовавшей модели Культуры – космологии чуда, направленные на восстановление способности к радости, надежде и будущему. Ведь жизнь есть спонтанное нередуцируемое явление, что само по себе уже чудо, и чтобы жить эту жизнь, чтобы она была выносимой, необходимы чудеса воображения.
Более подробное рассмотрение имагинативного бунта требует привлечения политического измерения данного вопроса, а также обращения к традиционной проблеме утопии, воображаемых сообществ и прочего. Однако нам здесь достаточно указать, что невозможность создавать будущее является угнетенным, депрессивным, состоянием жизни. Подлинное будущее не хронологическое бегство от настоящего, а его свобода. Это осмыслялось в философии со времен Георга Гегеля и Фридриха Ницше до вполне актуальной критики капиталистического реализма у Марка Фишера. Именно размыкание депрессивного реализма является тем, что Бенедикт Спиноза мыслил в аффекте радости – силой интенсивной бесконечности существования, воодушевлением быть, которое романтизм переосмыслил в новую философию природы. Именно это размыкание горизонта и взгляд в будущее Эрнст Блох называл принципом надежды, равно как и в целом оно играло существенную роль в позитивном содержании критических теорий как таковых[12]. Конечно, в утвердительном и трансформационном аспекте имагинативного бунта рассмотренный реализм предельно сближается с витализмом. Однако уточним, что мы не вносим сюда никакого представления о специфической «жизненной энергии». Сила существования связана с интенсивной бесконечностью строго в рамках рассмотренной выше онтологии утечек и экстатической свободы. Эта сила оказывается не «животным», а тончайшим планом, где красота жизни становится чем-то большим, чем простой витализм, чем-то выше и разреженнее – тихий свет звезд, одинаково дарующих материю кристаллам и растениям, животным и людям. Точка моцартовского смеха.
Заключение: к имагинативной анархеологии
Формат небольшого эссе не позволяет перейти к подробному рассмотрению структуры и истории имагинативных бунтов. Достаточно того, что нам удалось показать имманентность воображения не просто в качестве возможности непосредственного эстетического восприятия природы, но и как силу существования. Таким образом, имагинативный реализм оказывается связан не только с эстетическим реализмом, но и с космологией радости. Далее следовало бы уже не говорить об онтологических принципах, но разрабатывать практики имагинативистского размыкания ситуаций и обнаружения интенсивных избытков. Исследовать структуры расслоения образов реальности и ускользания в бесконечность. В эстетическом измерении это можно было бы назвать движением вглубь новалисовской «природной анархии». Мы предлагаем называть подобную теорию имагинативной анархеологией. Однако не будем забегать вперед. В предлагаемом эссе мы лишь попытались осуществить герменевтический скачок в самое сердце имагинативного реализма, раскрывающий некоторые концептуальные положения, но в большей степени задающий поле вопросов и возможных исследований. Можно сказать, что это была попытка наметить пространство надежды. Пространство всеобщей имагинативной борьбы, воодушевляющей верить в победу радости над страхом, где движение за горизонт оказывается не бегством, а бесконечной силой существования.
Природа любит прятаться, как учил Гераклит. Простота того, что непосредственно есть, поистине оказывается главной тайной мышления. Она всегда скользит, удваивается и прячется, когда мы желаем поместить ее в фокус наших размышлений. Разум в своем автоматизме склонен теряться среди удвоений простого, принимая отслаивающиеся чешуйки понятий за само реальное, принимая завершенное прошлое мгновения за его настоящее. В основе мира лежит не загадка из символов, но несимволизируемая тайна, расщепление которой и является лабиринтом нашего разума.
В этой парадоксальности отрешенному взгляду сам Абсолют предстает уже не тотальной или трансцендентной сущностью, но былинкой. Тем самым, и абсолютный горизонт мгновения, вскрывающий интенсивную бесконечность как силу существования, всегда непосредственно дан в движении кривых линий. Он подобен вывернутым наизнанку неоплатоническим кругам сущего – их центр нигде, но край везде. Возможно, тот самый край (Gegnet), из-за которого, по словам Мартина Хайдеггера[8], приходит мысль и для которого относительный (феноменологический или субъективный) горизонт является лишь предметно-представляющим модусом. Подобно плотному облаку на ясном небе, край которого настолько четкий, что взгляд как бы проникает за него и оказывается уже не перед наличным предметом, а в непосредственной глубине его самобытности. Поэтому в приводившихся образах дзэнской изгороди, античных звезд или артефактов прошлого первостепенную роль играет не даль, а именно свобода образа. Его абстрагирование от нейтрального представления предмета или ситуации в глубь бесконечности и безличности мгновения – становление грезой. Пространственная или временная дистанции способны усиливать некоторые эстетические эффекты, но они являются лишь одними из возможных путей освобождения образа, а вовсе не его содержанием. В целом речь о любом образе, позволяющем «провалиться» в конечную вещь как в интенсивную бесконечность.
Только возможность провалиться, подобно героине «Алисы в стране чудес», открывает непосредственный смысл мгновения – природу в ее абсолютной имманентности. Если относительный горизонт мгновения оказывается связан с представлением, отделяющим субъект от мира и собирающим его в актуальную картину, то абсолютный – со свободным образом, включающим субъект в безличное становление. Воображение в своей онтологической основе и является ускользанием за относительный горизонт к горизонту абсолютному, движением в бесконечно расслаивающихся образах актуальной действительности. Можно использовать различные формулировки, но суть одна – это всегда открытие бесконечности в конечном. Именно поэтому в общедоступных понятиях воображение определяют как способность видеть несуществующее и отсутствующее. Интенсивная бесконечность природы, избыточность ее становления, является не актуальным предметом, а свойством разрыва предметности. В этом и суть: бесконечность вообще не может быть дана в качестве конечного предмета, но как интенсивная бесконечность она характеризует глубину бытия любой вещи. Конечная вещь является относительным пределом интенсивной бесконечности собственного бытия в становлении. Возможность провалиться в глубину образа не дает нам никакого другого предмета – это не галлюцинация и не телепортация. Мы видим ту же самую актуальную реальность, наши глаза нас не обманывают, но при этом мы видим нечто большее в том же самом, его интенсивность. Линия актуализации удваивается, трещит, расщепляется, освобождая образ, а вместе с ним и нас самих.
Свободные образы оказываются имманентным скольжением конечного к собственной интенсивной бесконечности. Воображением в таком случае можно называть не субъективную способность, но те же самые отрешенные образы как условие реальности движения субъекта сквозь относительный горизонт к горизонту абсолютному. Точнее говоря, условие его производства в этом движении. Не Я вижу бесконечность за горизонтом, но свободные образы выражают ее через трещину или просвет в реальности, где мир выходит за предел самого себя. Именно для того, чтобы отличить указанный онтологический смысл воображения как реального процесса от всех его разнообразных значений и трактовок, нами используется введенный Яковом Голосовкером термин «имагинация». Более понятным он может стать через то, что в европейской философии XX века называли критикой репрезентации и метафизики субъекта, которая в некоторых случаях привела к подозрительности в отношении воображения как такового. Сами основания этой критики актуальны по сей день, но, подобно тому, как децентрация не убила субъекта, а открыла его в ином смысле, так и здесь следует различать воображение как представление, подчиненное условиям возможности знания, и воображение – как интересующую нас имагинацию, укорененную в имманентном. Материальная действительность, природа – больше всего того, что возможно представить. Воображение в смысле имагинации является процессом проживания и освоения этой избыточности, а не представлением и фантазированием.
Вот Я, мыслящий субъект, наблюдающий нечто и выносящий об этом суждения. Вот объекты, которые я наблюдаю, мыслю и с которыми взаимодействую. Эта оппозиция относительно неплохо работает, когда мы на уровне формальной логики выделяем что есть субъект, а что есть объект конкретного высказывания. Однако на онтологическом уровне, то есть не в соотнесении чистых пропозиций, но в производстве самой их действительности, вещи проявляют дерзость, хюбрис, экспрессию, сопротивляясь сведению себя до статуса нейтральных объектов. В действительности наше представление о нейтральных объектах, данных для нейтрального познания, касается не сущности вещей как таковых, а связано с картиной мира, производной от вполне конкретных специфических типов объективации – социальных отношений, технических устройств и тех вещей, для которых с точки зрения нашей темпоральности характерно постоянство и предсказуемость, например, движение звезд на небе. Классическое кантианское решение этого несоответствия между субъектом и объектом, рациональным и эмпирическим – трансцендентальная субъективность, то есть определенные правила, выступающие условиями возможности любого опыта. Они всеобщим и необходимым образом задают рамки, в которых воображение работает как схематизм рассудка, конструирующего непосредственный единичный предмет нашего представления на основании универсальных категорий. Благодаря данной функции воображения, мы действительно способны мыслить предмет в его отсутствии так, чтобы производить с ним истинностные логические операции.
В противоположность этому имагинацией мы называем совершенно иную область воображения – не представления, а свободные образы. Подобно трансцендентальной субъективности, она тоже занимает место по ту строну субъект-объектной оппозиции, но в перевернутом смысле. Речь уже не о всеобщих и необходимых суждениях, а об утечках реальности, связанных с ее онтологическим избытком. Имагинация является имманентным движением субъекта сквозь относительный горизонт мгновения к горизонту абсолютному и тем самым выступает модусом воображения, не подчиненным репрезентации. Последняя есть производство представлений, существующих вне и над действительностью желающего субъекта и становящихся вещей, в качестве нейтральной возможности указания на соответствующую ей реальность. Фантазии и иллюзии являются побочной продукцией той же самой функции. Обладая аналогичным статусом несуществования в реальности, они при этом не соотносятся с реальностью вещей, а представляют самих себя. Это ложная свобода, так как игра фантазий остается в рамках относительного горизонта субъективных возможностей, производя новое лишь в виде химерического соединения имеющихся представлений о природе и культуре. Напротив, игра воображения в смысле имагинации является не свободой субъекта смешивать представления, но свободой самого образа.
На фундаментальном онтологическом уровне воображение (имагинация) носит эстетический, а не эпистемологический характер. Беспредметную глубину образа, сияние его способности указывать сквозь себя в бесконечность мы и называем красотой. Она ничего не добавляет к вещам и ничего у них не отнимает, выступая чистой имманентностью. Воображение, ускользая за относительный горизонт к горизонту абсолютному, позволяет нам провалиться в глубину единичного, глубину мгновения и первое, что мы встречаем, – красоту. Конечно, красота является почти столь же объемным понятием как воображение или природа, отношения с которым требуют уточнений. Для нас важно, что красотой именуется не только изящное и гармоничное. Она может быть ужасающей, жуткой, странной, волшебной и так далее, в зависимости от того, какие констелляции образов мы рассматриваем и с какими критериями к ним подходим. При этом во всех случаях главное, что ее нельзя понимать как простое соответствие некоему образцу, идеалу, порядку. Через соответствия работают представления и пропозиции. Напротив, красота является разрывом реальности, но не причиняющим ущерба, а обогащающим. Она позволяет избыткам образов течь и увлекать нас за собой. Красота, по определению, является напряжением между конечной актуальной формой и интенсивной бесконечностью ее становления, подразумевая тем самым не гармонию как наличный порядок и соответствие, а невозможную гармонию.
Образ может быть свободным и ускользающим, а может быть предметным представлением, всегда так или иначе существуя в некоторой двусмысленности. Красота же безошибочно маркирует непосредственно онтологический уровень разрыва и утечки реального. Свободный образ неизбежно существует в эстетическом режиме. Поскольку мы выделили имагинацию как имманентность воображения, то красота, или имагинативная эстетика, является самим его основанием – хрупким и абсолютным. Когда воображение, следуя имманентному потоку отрешенных образов, устремляет взгляд за горизонт, в (не)зримую бесконечность, оно обнаруживает красоту в качестве самой ее материальности. И в этом смысле материалистическая онтология воображения, конечно же, является эстетической онтологией, а имагинативный реализм – эстетическим реализмом. Представление эстетики как онтологии и первой философии имеет давнюю традицию, с различными трансформациями прошедшую через античный и ренессансный неоплатонизм, чтобы затем усилиями романтиков и наследующих им поэтических онтологий достичь современности. Тем не менее мы настаиваем на формулировке «имагинативный реализм», поскольку, во-первых, понятие «имагинация» позволяет избежать редукции воображения к репрезентации, структурно-аналитическому Воображаемому или просто к иллюзиям; и, во-вторых, оно уберегает от сведения вопроса к художественному творчеству и теориям прекрасного в искусстве. Иначе говоря, понятие «имагинация», указывая на имманентность воображения, делает то же самое в отношении обширной и двусмысленной области эстетического.
И здесь мы вплотную подходим к центральному принципу имагинативного реализма – спекулятивному тождеству природы и воображения, или имманентности воображения. Его смыслы поднимались нами слой за слоем на каждом герменевтическом круге через неразличимое наложение восприятия и бытия, относительного и абсолютного, конечного и бесконечного, утечек и избытков, представления и образа, фантазии и грезы, порядка и красоты. Пришло время собрать картину воедино.
Абсолютная свобода: имагинативный реализм и имагинативный бунт
Природа любит играть и прятаться. В этом убеждает тайна простоты, парадоксальная вечность мгновения, непредсказуемость единичного, непрестанное расслоение образов реальности. Отсюда реальнейшее, абсолютное, бесконечное, странным образом оказывается не тотальным, идеальным или трансцендентным, а имманентным, хрупким, былинкой. Трансцендентное имманентно, что не делает данную реальность завершенной, совершенной и полностью актуальной – напротив, реальность бесконечно проваливается вглубь себя самой, во фрактальные коридоры и дифференциальную имманентность. Иначе говоря, реальность не предстает замкнутой на себе позитивностью, она выходит за свои пределы. И не в какое-то наличное потустороннее пространство, но сама становясь Открытым. Имманентность потустороннего, где Абсолют – это скорее неизбывная трещина актуального пространства, чем его идеальный фундамент.
Однако если реальнейшее предстает парадоксами времени без становления или становления без времени, в которых природа играет и прячется, разве не воображение как игра свободных образов, достигает этой действительности? Конечно, не фотографически точного представления – ведь о каких предметах и единицах может идти речь в разверстой вечности мгновения? Свободная игра образов, ускользая за горизонт актуального, достигает иного реализма – имагинативного. Надежного лишь в своей аффективной настоятельности, в своем динамизме и онтопоэтизме, в хрупкости самой игры, а вовсе не в ясности и отчетливости представления, которое можно из него извлечь. Иначе говоря, если материальная действительность существует в становлении, воображение необходимо для восприятия ее беспредельной потенциирующей и вероятностной природы. Свободные образы как эстетическая материя воображения оказываются непосредственным выражением самого бытия становления. Материалистическая онтология воображения в этом ключе оказывается онтологией трансформаций, онтологией неустойчивого, но реального становления, в котором субъект не исчезает, а пересобирается из материала своей дезинтеграции. Становление тем более интенсивное, что его не следует понимать в качестве капиталистического производства и хронологического времени, – оно подразумевает глубину, самодостаточность и бесконечность мгновения, покой высшего напряжения, сингулярность.
Для усиления тезиса скажем, что именно в духе имагинативного реализма ранними романтиками была изобретена волшебная сказка в ее отличие от традиционной народной сказочной формы, хотя и не без связи с ней. Романтическая сказка и есть свободное сплетение образов за горизонтом, что делает ее не уходом от действительности, а, напротив, интенсивностью – не иллюзией, а подлинно реальным. Именно это подразумевал Новалис, говоря, что в сказке царит «природная анархия»[9] – не произвол человеческого ума, а свобода и тайна самой природы. Имагинативистские исследования сказок и сказочности – отдельная интересная тема, к которой мы обратимся в других текстах. Здесь же достаточно, что указание на сказку пресекает извращение имагинативного реализма в тезис о простом соответствии воображения и действительности, их безразличное совпадение. Сказка в еще меньшей степени, чем красота, может быть каким-то простым соответствием.
Мы последовательно указывали на природу мгновения как имманентную трещину, открывающую существование Иному. Свобода образа предполагает, что разрыв становится гранью прилегания природы и воображения, но не безразличного совпадения. Выражаясь проще, речь не о наивном совпадении мечты и действительности. Имагинативный реализм не подразумевает никакого постмодернисткого эзотеризма в духе «трансерфинга реальности» или религиозного фанатизма. Абсолютным и безусловным совпадением конечного и бесконечного оказывается сам разрыв реальности в ее интенсивных избытках. Отсюда невозможно свести полноту действительности или реальнейшее ни к какому-то Объекту, сказав, что все трещины лишь в дефектах субъективности, ни к автономному Субъекту, сказав, что он творит реальность по своей воле, ни даже к трансцендентальной сетке всеобщих категорий, предустанавливающей все возможные формы субъект-объектной корреляции. Имагинативный реализм утверждает имманентное присутствие Иного как неизбывность утечек. Вследствие этого свобода субъекта не отрицается, не редуцируется к полю объективного или возможного, но становится экстатической, то есть не принадлежащей ему самому. Данный тезис оттачивался в долгой традиции постметафизического мышления, которая от Фридриха Шеллинга через Мартина Хайдеггера и Жиля Делёза приводит к некоторым современным авторам. В ее центре находится вопрос об имманентно Ином как бесконечности в конечном, необычности обычного. Онтопоэтический вопрос об интенсивных избытках как безвластном реальнейшем, сопротивляющемся власти ясных и отчетливых представлений. Вопрос о той самой свободе, проблематичность которой заострил своей мыслью Фридрих Шеллинг: не свобода от природы, но свобода в природе[10].
Конечно, свободен лишь Абсолют, на что намекает латинское значение этого слова[11], а свобода субъекта является необходимостью воссоединения с ним. В общем виде эта мысль имеет древнюю традицию как на Востоке, так и на Западе. Однако мы видели, что абсолютной предстает не тотальность или трансцендентная сущность, но сама утечка реальности, ее неизбывный раскол и становление. В таком случае свобода, понимаемая как единение, уже не является привычным смирением перед трансцендентным Богом или тотальной Природой. Свобода субъекта действительно вне его самого, но не в потустороннем. Она реализуется в той мере, в которой субъект идентифицируется с интенсивной бесконечностью конечного. Конечное не подлежит снятию, отрицанию или возвращению к собственному тождеству через негативность, а открывает подлинно Иное в его невозможности – онтологическую свободу. Ее можно назвать отрешенностью, но никак не смирением. Иначе говоря, речь не идет о ничтожном положении субъекта пред Богом или Природой, требующими покорности как единственного пути к спасению от жалкой участи. В своей негативности подобная модель лишь узаконивает любой актуальный порядок и вместо освобождающего единения с бесконечностью подразумевает смиренное соответствие вполне конечной конъюнктуре. Напротив, идентификация с интенсивным избытком открывает имманентно Иное как бесконечную перспективу свободы.
Открытость конечного и связанная с этим имманентная утечка образов позволяют отрешиться от актуального, не сменяя его на оковы Ничто. Оковы, характерные для ресентимента, нигилизма или инвестиций желания в идеальную жизнь, принуждение к которой исходит как от религиозных культов, так и от капиталистических культур. Это Ничто принимает различные формы: от циничного отрицания до покорного смирения, ибо в сущности они одно – отсутствие свободы и воображения. Напротив, имманентность Иного, отрешение, связанное с утечкой образов, освобождает скорее непозитивную утвердительность игры, чем негативность цинизма и смирения. Экстатическая свобода ускользает за горизонт актуального, открывая интенсивную бесконечность того, что есть в становлении, а не бытии или небытии трансцендентного идеального мира. При этом воображение в смысле имагинации мы и определяли как ту самую утечку образов, выступающую условием реальности движения субъекта сквозь относительный горизонт к горизонту абсолютному, а не как субъективную способность представления. Таким образом, мы действительно свободны воображать, но не владея этой свободой, а, напротив, принадлежа ей, производясь ею. Более того, принадлежность свободе оказывается самой утечкой реальности, а не формой соответствия идеальному.
Поэтому наиболее характерным жанром имагинативного реализма можно считать именно сказку в ее свободе и хрупкости, в ее анархо-имагинативизме, а не миф с его мощной социально идеализирующей инерцией. Поэтому же главным героем имагинативизма стоит называть «Дон Кихота» Мигеля де Сервантеса. Как и волшебным сказкам, этой фигуре следовало бы посвятить отдельное исследование; здесь же лишь выделим главное. Несмотря на расхожие представления о «донкихотстве» как о прекраснодушии или наивно-романтическом культе мечты, оригинальный персонаж Сервантеса гораздо глубже более поздних – упрощающих – прочтений. Текст проходит путь начиная с откровенной сатиры через трагикомедию к какой-то невероятной тайне. Это трагическая история о том, что мечта всегда разобьется о реальность, но что вместе с тем нет ничего более реального, чем сама эта гибель. Поэтому имагинативный реализм подразумевает не притворство или бегство в иллюзии, а игру без фальши, благородство броска костей, невинность и легкость, подобные смеху Моцарта из «Степного волка» Германа Гессе. Игра воображения открывает высшие моменты, в которых трансформации субъекта и мира становятся не разладом, а прозрением вечности. Если бы речь шла об абсолютной вере во «что-то» или о моральном императиве стремиться к таковой, легкость игры природы-воображения была бы невозможна, как не нужен был бы и свободный субъект.
Без этой абсолютной надтреснутости воображение невозможно: оно извращается либо в отражение действительности, либо в психоз. Разве дети, когда самозабвенно играют в летающих героев и прыгают со стула на стул, выпрыгивают при этом из окон? Такое возможно только как несчастный случай, от которого никто никогда не застрахован, но который точно не является ни игрой, ни воображением. В самой сущности имагинации содержится этот фундаментальный раскол, не препятствующий реальности воображения, а порождающий ее. Раскол трагический, но не в смысле пессимизма, а как заведомое условие невозможности, порождающее саму игру. Подлинная игра воображения тем более реальна, чем более уводит за горизонт возможного, в самое сердце природы, становясь непосредственным субъективным отношением к материальной действительности в ее абсолютном содержании. Иначе говоря, в игре воображения открывается вечность, которая не может быть дана в качестве идеального объекта. Именно в этом, например, подлинная сила мифа, а не в «типах», которые можно из них вычленить и которые действительно за долгие века оставили глубокие следы в коллективном воображаемом. «Архетип» является не абсолютным содержанием имагинации, а среднестатистической фантазией, что вовсе не отменяет возможности его рассмотрения и даже применения, но помещает в иной регистр воображаемого, не относящийся к имагинативному реализму, а уводящий скорее в область самоуверенного традиционализма.
Если природа любит прятаться, если бытие в своей простоте оказывается тайной, то ее не достичь апелляцией к ясному и отчетливому представлению. И не важно, имеет ли это представление своим предметом материальный объект или выделенный в воображаемом тип. Необходимо конструировать области эстетического затемнения в знании и управляемой спонтанности воображения. Лучше всех это было известно уже упоминавшимся романтикам, а также сюрреалистам в их общей стратегии, направленной на создание темных трещин, разрывов и ущелий в представлениях о действительности, которые могло бы заполнить воображение. Собственно, техника романтического фрагмента и является чистой воды работой с имманентностью свободных образов. Для них было очевидно, что природа не является предметом правильных представлений, выстроенных в ясную и отчетливую картину мира. Она раскрывается лишь тому, кто готов включиться в игру, проникнуться воодушевлением. Природа для романтиков и была этим воодушевлением быть, где образование минералов, органический рост и творческое воображение имеют неразличимый корень. Именно поэтому Новалис писал, что в сказке царит «природная анархия». Фрагмент как свободный образ является одним из главных инструментов достижения подобного реализма: свободная единичность разрывает относительный горизонт слаженности мира, открывая сумрачный абсолютный горизонт имманентности.
И здесь, обозначив реальность воображения как свободу и невозможность, мы подходим к пределу, за которым речь должна идти уже не о принципах имагинативного реализма, а о формах его действительности. О конкретных практиках воображения как материальной силы, что раскрывает альтернативные потенции реальности. Именно это, в конечном счете, и является подлинным реализмом. Имагинативная игра и ее эстетические режимы никогда не бывают нейтральными, они движутся в гетерогенности интенсивных избытков, выражающих саму силу существования. Воображение в смысле имагинации есть отношение субъекта к свободным образам как имманентному скольжению конечного к собственной интенсивной бесконечности. Условие реальности его движения за горизонт. Это не просто эстетическая онтология, но онтология трансформации субъекта и мира, где тот, «кто хочет душу свою сберечь, потеряет ее» (Мф. 16:25, Мк. 8:35, Лк 9:24): онтология роста, непосредственной спонтанности природы как экстатической свободы. Тем самым воображение связано с возможностью размыкать ситуации, подобно семени, пробивающему шелуху, или змее, сбрасывающей кожу. Когда актуальность превращается в тупик и удушье, именно воображение в рассмотренном имагинативном смысле оказывается настоящей виталистской силой, способной взбунтоваться и прорвать рамки возможного. Отрешиться от актуального и ускользнуть, а не смириться. Например, таковым был романический бунт конца XVIII - начала XIX века против господствовавшей модели Природы или бунт 1960-х годов против господствовавшей модели Культуры – космологии чуда, направленные на восстановление способности к радости, надежде и будущему. Ведь жизнь есть спонтанное нередуцируемое явление, что само по себе уже чудо, и чтобы жить эту жизнь, чтобы она была выносимой, необходимы чудеса воображения.
Более подробное рассмотрение имагинативного бунта требует привлечения политического измерения данного вопроса, а также обращения к традиционной проблеме утопии, воображаемых сообществ и прочего. Однако нам здесь достаточно указать, что невозможность создавать будущее является угнетенным, депрессивным, состоянием жизни. Подлинное будущее не хронологическое бегство от настоящего, а его свобода. Это осмыслялось в философии со времен Георга Гегеля и Фридриха Ницше до вполне актуальной критики капиталистического реализма у Марка Фишера. Именно размыкание депрессивного реализма является тем, что Бенедикт Спиноза мыслил в аффекте радости – силой интенсивной бесконечности существования, воодушевлением быть, которое романтизм переосмыслил в новую философию природы. Именно это размыкание горизонта и взгляд в будущее Эрнст Блох называл принципом надежды, равно как и в целом оно играло существенную роль в позитивном содержании критических теорий как таковых[12]. Конечно, в утвердительном и трансформационном аспекте имагинативного бунта рассмотренный реализм предельно сближается с витализмом. Однако уточним, что мы не вносим сюда никакого представления о специфической «жизненной энергии». Сила существования связана с интенсивной бесконечностью строго в рамках рассмотренной выше онтологии утечек и экстатической свободы. Эта сила оказывается не «животным», а тончайшим планом, где красота жизни становится чем-то большим, чем простой витализм, чем-то выше и разреженнее – тихий свет звезд, одинаково дарующих материю кристаллам и растениям, животным и людям. Точка моцартовского смеха.
Заключение: к имагинативной анархеологии
Формат небольшого эссе не позволяет перейти к подробному рассмотрению структуры и истории имагинативных бунтов. Достаточно того, что нам удалось показать имманентность воображения не просто в качестве возможности непосредственного эстетического восприятия природы, но и как силу существования. Таким образом, имагинативный реализм оказывается связан не только с эстетическим реализмом, но и с космологией радости. Далее следовало бы уже не говорить об онтологических принципах, но разрабатывать практики имагинативистского размыкания ситуаций и обнаружения интенсивных избытков. Исследовать структуры расслоения образов реальности и ускользания в бесконечность. В эстетическом измерении это можно было бы назвать движением вглубь новалисовской «природной анархии». Мы предлагаем называть подобную теорию имагинативной анархеологией. Однако не будем забегать вперед. В предлагаемом эссе мы лишь попытались осуществить герменевтический скачок в самое сердце имагинативного реализма, раскрывающий некоторые концептуальные положения, но в большей степени задающий поле вопросов и возможных исследований. Можно сказать, что это была попытка наметить пространство надежды. Пространство всеобщей имагинативной борьбы, воодушевляющей верить в победу радости над страхом, где движение за горизонт оказывается не бегством, а бесконечной силой существования.
Пространство всеобщей имагинативной борьбы, воодушевляющей верить в победу радости над страхом, где движение за горизонт оказывается не бегством, а бесконечной силой существования.
material imagination lab
[1] Дорожкин Е.Л. Геофилософия сумрачного мира: земля, субъективность и воображение // Неприкосновенный запас. 2024. № 3(155). С. 173-189.
[2] Голосовкер Я.Э. Имагинативный Абсолют. М.: Академический проект, 2012.
[3] Хаксли О. Двери восприятия. М.: АСТ, 2022. С. 15.
[4] Хайдеггер М. Жительствование человека // Он же. Исток художественного творения. М.: Академический проект, 2008. С. 458.
[5] Догэн. Луна в капле россы. Рязань: Узоречье, 2000. С. 95.
[6] См.: Иоанн Дунс Скот. QUODLIBET. Вопрос V. Есть ли отношение происхождения [в божественном] формально бесконечное? // EINAI. 2012. №1/2. С. 237-269.
[7] Делез Ж. Что такое философия? СПб.: Алетейя, 2018. С. 50.
[8] Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге. М.: Высшая школа, 1991. С. 117.
[9] Новалис. Фрагменты. СПб.: Владимир Даль, 2014. С. 248, 211.
[10] Шеллинг Ф.В.Й. Философские исследования о сущности человеческой свободы и связанных с ней предметах // Он же. Сочинения: В 2 т. М.: Мысль, 1987. Т. 2. С. 86-158.
[11] Absolutus (лат.) – свободный, независимый, самостоятельный, несвязанный, неограниченный, безусловный.
[12] Сюткин А., Серебряков А. Трещина в Абсолюте. Спор об утопии в критической теории // Логос. 2024. №6. С. 67-113.
[2] Голосовкер Я.Э. Имагинативный Абсолют. М.: Академический проект, 2012.
[3] Хаксли О. Двери восприятия. М.: АСТ, 2022. С. 15.
[4] Хайдеггер М. Жительствование человека // Он же. Исток художественного творения. М.: Академический проект, 2008. С. 458.
[5] Догэн. Луна в капле россы. Рязань: Узоречье, 2000. С. 95.
[6] См.: Иоанн Дунс Скот. QUODLIBET. Вопрос V. Есть ли отношение происхождения [в божественном] формально бесконечное? // EINAI. 2012. №1/2. С. 237-269.
[7] Делез Ж. Что такое философия? СПб.: Алетейя, 2018. С. 50.
[8] Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге. М.: Высшая школа, 1991. С. 117.
[9] Новалис. Фрагменты. СПб.: Владимир Даль, 2014. С. 248, 211.
[10] Шеллинг Ф.В.Й. Философские исследования о сущности человеческой свободы и связанных с ней предметах // Он же. Сочинения: В 2 т. М.: Мысль, 1987. Т. 2. С. 86-158.
[11] Absolutus (лат.) – свободный, независимый, самостоятельный, несвязанный, неограниченный, безусловный.
[12] Сюткин А., Серебряков А. Трещина в Абсолюте. Спор об утопии в критической теории // Логос. 2024. №6. С. 67-113.
Впервые текст опубликован в журнале "Неприкосновенный запас"